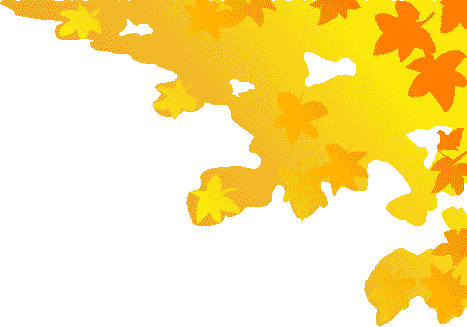
КолРассказы для армавирских детей 1960-1970 гг. Владимир Шнайдер
В нашей школе давным-давно существует четырехбальная шкала оценок. Удивлены? Для меня это открытие стоит в одном ряду с ягодой-арбузом и травой-бананом. Суть в том, что «1» не является официально признанной оценкой, то есть учителя не должны её ставить в тетради или дневники. Нет такой оценки. Но не тут-то было. Моя первая учительница вовсю использовала воспитательно-унизительно-подавительный потенциал единицы, а кроме того применяла ещё и укоризненное «См», которое мы проговаривали как «сэмэ», хотя по логике нужно было бы говорить «эсэм» или тогда уже «сым». Это сэмэ в конце наших каракулей (будь то цифры или буквы) должно было как бы говорить нам: вот эта вот муть не заслуживает моего внимания, но так как настроение у меня вчера было не слишком сумрачное, я решила порасписывать ручку и вывести тебе более сложное начертание, чем «1» (КОЛ). Можно сказать, что я учился в начальной школе с явно завышенными требованиями, где использовалась не четырехбальная, а шестибальная система, причем три балла были в явном негативе и означали «плохо», «хуже некуда» и рвотный спазм. Дело в том, что у меня плохой почерк. Вообще у мальчиков почерк, как
правило, хуже, чем у девочек, а если это исключение из правил, то тут
уже нужно насторожиться родителям. А в начальной школе учителя особенно
ценят опрятность. У тебя не должно быть помарочек (таких
микроскопических исправлений), под правую руку нужно положить
промокашку. Если ты не подложишь промокашку, то ручка заскользит по
жирной поверхности или у тебя (о, ужас) останутся на листке отпечатки
пасты с пальцев или ладоней. Короче, «сэмэээ»! В те времена, когда ученики использовали наливные ручки или писали перьями, промокашки были им очень нужны, мы же в них не сильно нуждались, но тетрадоделательная промышленность по инерции продолжала нам их подкладывать. Я терпеть не мог (и не могу) писать на лощёной бумаге, из которой изготавливали, как мне кажется, тетради в линию, то есть для занятий по русскому языку. Эта бумага выглядела очень качественной и была более белой по цвету, чем нелощеная, но в ней был какой-то холод и официоз, а сделать ошибку на лощеной бумаге казалось гораздо бóльшим преступлением, чем на обычной. Наверное, с тех пор мне по сердцу тетради в клетку, состоящие их желтоватых и немного шершавых листов самой обыкновенной бумаги. Последний лист обложки заслуживает особого внимания. За весь период моего обучения я запомнил четыре варианта основного содержания этой страницы. Это была таблица умножения, таблица Пифагора, гимн СССР и моральный кодекс строителя коммунизма. Вместе с ними нередко прилагался перечень и основные значения системы мер и весов. Тетради были двенадцати-, восемнадцати- и двадцатичетырехлистовые. Тетради большего формата в школе не использовались и назывались «общими», как бы подразумевая, что в объем более 24 листов записывать что-либо одно слишком расточительно. Вот такую двенадцатилистовую тетрадь из лощеной бумаги в линейку и с розовой промокашкой девочки нежно клали на парту. Потом они вынимали свой пенал, в котором были разноцветные ручки и остро очиненные мамой простые карандаши. В наши времена нередко ещё встречались так называемые химические карандаши. Если грифель такого карандаша «послюнявить», то какое-то время он пишет как будто чернилами. Такие карандаши нам не рекомендовали использовать на занятиях и у девочек их, разумеется, не было. Что такое фломастер мы знать не знали и слыхом не слыхивали. Первый фломастер в своей жизни я увидел где-то уже на рубеже старших классов. На меня, равно как и на любого другого, он произвел неизгладимое впечатление. Обладатели фломастеров сразу достраивали несколько ступеней в своей социальной лестнице. Фломастеры прибавляли им загадочности и некоей нездешности. Я точно не помню, но, наверняка, первый фломастер я увидел у кого-то из девочек. И вот наша девочка достала тетрадку, ручку, карандаши, её учебники уже сложены ровной стопкой на краю стола, а внизу этой стопки хранилось и вовсе нечто заветное. Это дневник. Именно со школьного дневника у людей начинает вырабатываться чувство ценности официальных бумаг и подписей, а красный цвет чернил вписывает в юное сознание спектр ассоциаций от ликования на грани эйфории до безысходности и отчаяния. Расположение дней недели в школьном дневнике до сих пор доминирует в моем сознании над иными календарными схемами. Наверное, у многих есть своя запись в дневнике, которая запомнилась на всю жизнь. У меня она была такой: «Ваш сын сбежал с урока труда и прятался из-за угла». Ей Богу, так и было записано. Мысль о том чтобы вырвать страницу из паспорта сегодня порождает во мне похожие эмоции с теми, когда я задумывался о возможности вырвать лист из дневника или наблюдал, как это делают другие. В общем, ученицы в младшей школе, как ни крути, удобнее учеников. Опрятные, с хорошим почерком без помарок – их тетрадки так легко проверять, даже не надо голову морочить: проверила одну, поставила перед собой и сличай с другими, как картинку в жанре «найди десять отличий». Наша учительница так и делала, прямо на уроке. А ведь, когда тебе 7 или 8 лет, всё что делают взрослые, а особенно учителя, кажется правильным. В тот далекий день я выполнял какое-то упражнение по русскому языку. Разумеется, его нужно было вывести аккуратным почерком в тетрадь в линеечку из лощеной бумаги. Не помню точно, в чем именно я напартачил, но, видимо, корявость моего почерка и пара-тройка чернильных отпечатков пальцев добили учительницу, и она влепила мне кол. Она не просто поставила единицу, она размашисто врезала её на полях размером больше чем в половину страницы. Добавляло трагизма то, что это была первая страница тетради, а значит, это клеймо мне пришлось бы носить до конца четверти. Не могу подобрать сравнения с тем, что было со мной, когда я открыл тетрадь. В современных фильмах подобное эмоциональное состояние героя отражают изменением ракурса заднего плана, который как бы увеличивается и надвигается на персонажа, словно раздавливая его. Вот это очень точный художественный прием. Не знаю уж задним планом или чем-то ещё, но в тот день меня точно раздавили. Я шел домой обреченным. Мать умела подобрать слова, после которых у меня оставалось ощущение, что я не просто получил плохую отметку, а упал в турнирной таблице всех её кровных родственников на последнее место, и это угрожало мне вылетом в низшую лигу, которая состояла, главным образом, из родственников моего отца. Выход был только один: упражнение переписать (разумеется, ровненьким почерком без помарок и ошибок), а тетрадь с единицей уничтожить. Причем сделать это было нужно настолько срочно, что мать забрала меня с собой на работу. Оставить меня дома и дать переписать самостоятельно было решительно невозможно, так как я уже доказал свою несостоятельность. Мысль о том, чтобы поручить (не попросить, а именно поручить) проконтролировать меня кому-либо из домашних мать не допускала, поскольку дома её окружали сплошь одни только родственники отца. Так я оказался на её рабочем месте. Мать работала на мебельном комбинате каким-то небольшим начальником. У неё был кабинет, который она делила с несколькими своими сослуживцами, выполнявшими ту же работу, что и она. Я уселся за её рабочий стол, положил перед собой две тетради: оскверненную и чистую. Стыд за полученный кол был настолько большим, что я прикрыл его промокашкой. Так оказалась доступной только верхняя часть листа со злосчастным упражнением. По мере переписывания промокашка перемещалась всё ниже и ниже, неминуемо угрожая обнажить разящий позором меч единицы. И всё бы ничего, но в кабинет все время заходили и выходили материны коллеги, а она, как назло, куда-то исчезла. И вот, когда переписывать, не открыв самого острия единицы, было нельзя, в кабинете появилась одна из материных сослуживиц. Это была совсем молодая девушка с открытым лицом и приятной улыбкой. Она только что о чем-то громко разговаривала за дверью и заливисто дохохатывая окончание разговора вошла в кабинет, увидела меня, подмигнула и прошла к стойке-вешалке, чтобы снять плащ. Потом она должна была пройти у меня за спиной, чтобы занять свое место. Я весь съежился и слегка подвинул вверх промокашку. Я старался не смотреть на девушку, когда она приблизилась к моему столу. Я наклонился к тетради, больше всего заботясь о том, чтобы она не увидела кол. А она остановилась у меня за спиной. Снаружи доносился фабричный гул. Кто-то глухо кашлял в коридоре. Девушка отодвинула мою промокашку. В таких случаях пишут: время для меня остановилось. Потом я услышал, как она тихо и совсем беззлобно усмехнулась и погладила меня по голове. И всё. После этого она прошла за свой стол, села и занялась какими-то делами, а я отложил ручку, прислонился к высокой спинке стула и посмотрел в окно. Уже смеркалось, темно-синие облака наползали откуда-то из-за корпусов фабрики. Когда закончится смена, мать вынуждена будет возвращаться домой через пять или шесть кварталов, где единственным уличным освещением были лампочки на фасадах. Отец не мог позволить ей такой прогулки и всегда встречал у проходной. Потом они шли домой, и обсуждали прошедший день или говорили о чем-то ещё. Наверное, сегодня мать будет рассказывать ему про мою единицу, но я знал, что сначала он подхватит меня на руки, и я уткнусь носом в ворот его пахнущей тяжелой работой рубахи. Я посмотрел на девушку, которая, казалось, уже забыла обо мне. А потом я смял промокашку и бросил её под стол.
Комментариев нет - Ваш будет первым!
|








